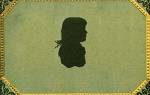Детские годы
Будущий популярный режиссер Страны Советов впервые увидел свет в родильном доме Екатеринбурга. А произошло это счастливое для семьи Мормоненко (именно такова настоящая фамилия артиста) событие в конце января 1903 года, если быть точнее, то 23 числа. Мать Григория звали Анфисой, отца — Василием. Большинство источников, сообщающих о жизни режиссера Григория Александрова в ранние годы, сходятся в том, что Василий был человеком простым, обыкновенным работягой — точнее, горнорабочим, и семья жила довольно скромно. Однако существуют и другие сведения. Согласно ним, отец будущего режиссера был владельцем гостиницы, и детство маленького Гриши прошло в роскоши. Впрочем большинство исследователей склонны верить первой версии.
Уже с двенадцати лет юный Гриша начал работать, чтобы помочь семье прокормиться. Это еще одно доказательство того, что в роскоши и деньгах Мормоненко явно не купались.
Знакомство с театральной жизнью
Первое место работы Гриши — разнорабочий в оперном театре родного города. Очевидно, именно тогда знакомство с театром, закулисьем и атмосферой творчества и состоялось в Гришиной жизни. Вполне возможно, что именно тогда, в подростковом возрасте, театром будущий Александров и заболел.
В Екатеринбургском оперном театре подросток Гриша трудился и посыльным, и помощником бутафора, и помощником осветителя, переходя с должности на должность, а иногда совмещая их все сразу. Параллельно с этим он посещал музыкальную школу по классу скрипки, которую не бросил, несмотря на занятость в театре. А там все было более чем хорошо — служба хоть и изнуряла молодого человека, но движение по карьерной лестнице вверх тем не менее все же происходило. За несколько лет Григорий проделал путь от простого посыльного, иными словами — мальчика на побегушках, до помощника режиссера. Параллельно Александров получил какое-никакое, а все же образование — он ходил на режиссерские курсы при Рабоче-крестьянском театре.
Примечания
- ↑ Перейти к:12 [kremlin.ru/acts/bank/5227 Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 06.01.1994 г. № 38 «О присвоении почетных званий Российской Федерации творческим работникам».]
- [nekropol-spb.ru/main/cemeteries/serafimovskoe/aleksandrov-aleksandr-sergeevich/ Александров Александр Сергеевич]
- [afg-hist.ucoz.ru/photo/in_memoriam/piterskij_pominalnik/87-0-845 ПИТЕРСКИЙ ПОМИНАЛЬНИК]
- [www.naliteinom.ru/index.php/component/content/article/6-2009-05-25-00-11-55/434–l-100-r Выставка «Литейный театр в Фонтанном доме. 100 лет театральной жизни»]
- [www.naliteinom.ru/index.php/show/bar/pressa/253—-1999- «Барышня-крестьянка» запела на Литейном”]
- [ptj.spb.ru/archive/18-19/chronicle-18-19/skazka-zaskazkoj/ СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ]
Начало творческой деятельности
Итак, с закулисьем Григорий Александров (на фото выше) был с юных лет знаком не понаслышке. «Кухню» эту он знал хорошо, ведь «варился» в ней много лет. Поэтому возможные трудности работы его не пугали.
После окончания режиссерских курсов вместе со своим старым другом, тоже ставшим режиссером — Иваном Пырьевым, Григорий занимался художественной самодеятельностью, однако вскоре был принят в ряды Советской Армии. На службе он провел около года, отдавал долг стране во фронтовом театре. А по возвращении «на свободу», как следует из биографии Григория Александрова, в жизни его «случилась Москва»…
Переезд в столицу
Как уже было сказано выше, трудности Григория не пугали. А еще не пугали, а лишь манили новые города и возможности. А потому, повстречавшись с московскими коллегами — актерами художественного театра, оказавшимися на гастролях в уральском городе, — и впечатлившись их работой до глубины души, Александров собрал чемодан и рванул в столицу. Перед этим, правда, зашел в Политотдел и упросил дать направление на повышение квалификации.
Москва встретила провинциального артиста с большими амбициями довольно приветливо. Во всяком случае он тут же поступил на работу в Московский первый рабочий театр Пролеткульта. Там он задержался на три года, там же встретил Сергея Эйзенштейна, и встреча эта была по-своему судьбоносной.
Григорий Александров

После революции в Екатеринбурге открылись курсы режиссеров Рабоче-крестьянского театра, Гриша сразу на них записался.
« По окончании курсов меня послали руководить фронтовым театром
, – вспоминал Григорий Александров в своих мемуарах «Эпоха и кино». – В революционной III армии, ведущей тяжелые бои с Колчаком, был свой театр. В этом мчавшемся по дорогам гражданской войны театре мне довелось осуществить свои первые режиссерские работы. В те времена все было очень просто: ночью писали пьесу, днем ее ставили, вечером играли спектакль ».
Всего в таких гастролях будущий режиссер провел год, после чего вернулся домой.
По возвращении в Екатеринбург Александров встретил своего друга Ивана Пырьева, тоже в будущем известного советского режиссера. Вместе они приняли участие в создании детского театра, а также клуба «ХЛАМ», в который входили художники, литераторы, артисты и музыканты.Члены этого клуба занимались тем, что боролись с дореволюционным искусством. Делали они это своеобразно – приходили в театр на постановку какого-нибудь классического произведения и освистывали актеров.
В 1921 году Александров вместе с Пырьевым задумали уехать в Москву. На их решение повлияла встреча с актерами Московского Художественного театра, приехавшими на гастроли в Екатеринбург. Начальство дало добро.
« Политотдел III армии решил направить Пырьева и меня в Москву на учебу
, – писал в мемуарах Григорий Александров. – Нас премировали трофейными шинелями, командирскими шапками и сапогами. Взяв командировочные удостоверения и по котомке соли (соль тогда была вместо денег, на нее можно было выменять и хлеб, и другую еду), мы отправились в столицу ».
Поезд постоянно останавливался, так как у кочегаров часто заканчивались дрова. Поэтому Александрову и Пырьеву нередко приходилось идти в лес с топорами и пилами за топливом.
« Последней порции дров хватило только до станции Лосиноостровская (теперь город Бабушкин)
, – делился режиссер. – Оттуда до Ярославского вокзала шли по шпалам. В котомках за плечами были остатки соли – весь наш капитал .Мы были чрезвычайно удивлены, увидев первый трамвай. Весь этот день мы с удовольствием катались на трамвае… Первые три года в Москве были временем исканий, поисками творческого пути – временем сомнений и неопределенности. Хотелось стать актерами… Мы метались среди множества различных «течений» и «направлений», держали экзамены всюду, где бы они ни объявлялись: в «Камерный театр», в «Театр революции», в «Первую студию Художественного театра», во «Вторую студию», в «Грибоедовскую студию», в «Пушкинскую студию», в «Поленовскую студию» и т д., и т.п.» Из воспоминаний Пырьева про тот период:
И вот зима 1921 года. Мы в Москве. Спим в холодном спортивном зале, на огромной пыльной, ободранной тахте. Голодаем, но успешно держим экзамены во многие студии и школы театров. Театральные школы и студия МХАТ общежитий в то время не предоставляли, и те, кто в них учился, — работал или служил, а чаще всего был на иждивении родителей. У нас же таких возможностей не было, и мы решили поступить в Первый рабочий театр Пролеткульта (здесь было общежитие и бесплатное питание)
.
Изначально на курсах при театре преподавал биомеханику Всеволод Мейерхольд, но через год его сменил его ученик Сергей Эйзенштейн.
В те годы Сергей Михайлович был 23-летним парнем, только начинающим свой путь в искусстве. Опыта режиссуры у него не было, он нарабатывал его по ходу дела, и тренировался на своих студентах. Его авторитет у студийцев был чрезвычайно высок, несмотря на небольшую разницу в возрасте. Всем был очевиден его яркий талант. К тому же вызывали восхищение ум и образованность. Ведь у большинства пролеткультовцев было только начальное образование.
Первый серьезный спектакль — инсценировка пьесы Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Постановка была супер-авангардная. С клоунами, политинформацией, комическими куплетами и трюками на трапеции. Александров играл Голутвина и ходил по канату. Спектакль был очень популярным.
Создателям показалось, что бумажный дневник, который по сюжету вел Глумов, это пережиток буржуазии, они заменили его кинолентой, которую он якобы снимал. Могу ошибаться, но думаю, что Пырьев в этом фильме — это белый клоун, который превращается во всякую всячину, а Александров — аферист в маске.
К тому времени у Пырьева наметились серьезные творческие расхождения с Эйзенштейном, и он решил его свергнуть. Из воспоминаний Пырьева:
«После постановки этого спектакля в театре началось брожение, образовалась некая оппозиция, к которой принадлежал и я.
Договорившись в принципе с руководством Пролеткульта о замене С. М. Эйзенштейна Е. Б. Вахтанговым, мы летом разъехались на каникулы. Но борьба за смену художественного руководителя не увенчалась успехом… В результате неудавшегося «путча» некоторые, в том числе и я, вынуждены были из Пролеткульта уйти».
Несмотря на то, что творческие пути друзей разошлись, они приятельствовали долгие годы. Памятное фото 1946 года. Пырьев обнимает Александрова, в правом нижнем углу.
А с Эйзенштейном у Александрова тогда образовалась крепкая дружба и плодотворное творческое сотрудничество. Со временем, правда, про Эйзенштейна пойдут гомосексуальные слухи, и эту дружбу начнут трактовать иначе, но биографам эти трактовки кажутся неверными.
Наум Клейман, биограф Эйзенштейна, так описывал их отношения с Александровым: Александров для него вовсе был не любовником, скорее его alter ego, как бы отчасти его продолжением. Он хотел сделать из Александрова хорошего режиссера, он мечтал, чтобы тот был… ну отчасти как сын, хотя тот ненамного младше, но гораздо более ребячливый
.
Внук Григория Васильевича подробнее объяснял суть этой дружбы «Эйзен говорил фальцетом и весь был соткан из комплексов и фобий — отчасти из-за своей внешности: у него была большая голова и довольно щуплое тело. Его постоянно преследовали страхи и депрессии. Как Эйзенштейн сам потом признавался, он очень нуждался в энергетической поддержке, и эту поддержку нашел в лице деда. Молодой, полный внутренней силы и энтузиазма, Александров стал для Эйзенштейна опорой почти на 10 лет. В самые сложные моменты жизни Эйзен всегда выставлял деда вперед, прикрываясь им как щитом
«.
В начале 20-х слухов о нетрадиционной ориентации Эйзенштейна еще не было. Более того, по воспоминаниям современников, в команде, которую он потом сколотил, победы над женщинами были своего рода спортом и считались бесспорной доблестью. Командой этой считалась его «железная пятерка» — актеры из студии Пролеткульта, которые впоследстви ушли за Эйзенштейном из театра и участвовали в его фильмах: Григорий Александров, Максим Штраух, Михаил Гоморов, Александр Антонов, Александр Левшин.
Александров в те времена считался просто каким-то невероятным красавцем. Его популярность среди прекрасной половины считалась почти легендарной. Его атаковали и письменно, и устно. Кто-то стрелялся из-за него, кто-то стрелял в него. В пролеткультовской стенгазете по этому поводу нередко появлялись карикатуры, фельетоны, стихотворные эпиграммы и эпитафии. Правда, избалованный женским вниманием Григорий не отличался активностью в поисках приключений — предпочитал, чтобы его искали, его хотели, за ним ухаживали.
Сергей Эйзенштейн в юности был достаточно увлекающимся человеком, правда, в личной жизни ему тогда не очень везло. Из записок, воспоминаний и дневников Эйзенштейна известно, минимум, о двух девушках, которых у него увел Александров.
Первая — дочь их общего учителя Всеволода Мейерхольда Ирина, с псевдонимом Хольд.
Известно, что в студенческие годы Эйзенштейн ухаживал за ней и был принят в доме ее родителей едва ли не как жених. Но в итоге они с Ириной расстались. Эйзенштейн в своем рабочем дневнике пишет, что образ князя Курбского в «Иване Грозном» во многом списан с Гриши, и даже : » надуманный вовсе эпизод «романа» с Анастасией мне кажется reproduction нашей с Ириной Х. , отбитой им у меня»
.
Кто смотрел фильм, помнит, что Курбский домогается Анастасию очень беспардонно, Даже сложно представить, что юный Гриша так пристает к интеллигентной Ирине Хольд. Тем не менее, обида у Сергея Эйзенштена осталась на всю жизнь, и даже незадолго до своей смерти он вспоминал об этой своей любовной неудачи в разговоре с приятельницей Эсфирь Шуб.
Впрочем, связь Григория с Ириной явно длилась недолго, потому что в том же 1921 году Мейерхольд отправил дочь в Ленинград преподавать биомеханику его последователям.
Вторая — красавица Вера Янукова. Это была настоящая роковая женщина в которую влюблялись практически все мужчины. Ее сокурсница Юдифь Глизер говорила, что: «В ней было то, что называется “поди сюда!”»
Вера была ученицей в студии Эйзенштенйа и участвовала в его акробатическом спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». Образ ее героини был очень похож на образ Марион Диксон в фильме «Цирк», который спустя много лет снимет Александров: появлялась на сцене в шелках и страусовых перьях, а затем с нее неожиданно, как-то невзначай, падало платье и она оставалась в одном черном трико, с цилиндром на голове. По тем временам чрезвычайно эротический образ.
Эйзенштейн замечал потом, что в основе кинофильма Александрова лежат реминисценции «Мудреца». «Тем более,
—вспоминал Эйзенштейн,— что в это время оба мы с Александровым были влюблены в Янукову, и самый номер был ежевоскресным “потрясением”—так мы оба боялись за нее (риск упасть и расшибиться в пух и прах действительно был громадным). Отсюда “травматическая” привязчивость “образа” несомненна. (Как я блуждал, нервничая, по подвалам—и по морозовской кухне —не будучи в состоянии глядеть на номер) »
Сначала красавица Вера отвечала взаимностью Сергею Михайловичу, отчего Григорий страдал и с удивительным самоистязанием посылал Эйзену письма с просьбой передать привет «Верочке отдельно, в уголке, на ушко
«.
Но вскоре ее отношения с Эйзенштейном закончились. Свидетелем разрыва стала домработница режиссера. По ее словам: «После того вечера Эйзен заперся в своей комнате, не хотел никого видеть, почти ничего не ел. Он находится в черной меланхолии, была эта женщина, просидела довольно долго, а как ушла—с ним такое творится, что даже страшно становится. Что-то кричит, а входишь—швыряет подушки. Потом вроде стонет и катается по полу
».
Очевидцы тех событий рассказывают, что вскоре Веру стали замечать в компании Александрова.
Роман с Верой у Григория тоже длился недолго. В 1924 году в труппу Пролеткульта поступила молодая актриса Ольга Иванова, в которую Александров влюбился с первого взгляда.
Красивая, обаятельная девушка, талантливая актриса. Впоследствии она работала в ансамбле «Синяя блуза» и в театре «Мюзик-холл». Характер у девушки был, по воспоминаниям современников, решительный, упорный. Знакомые говорили: «Красивая женщина… самолюбивая…. самостоятельная… надежный партнер: надо — значит, сделаю…»
К этой девушке у Александрова сразу вспыхнули сильные и яркие чувства. От периода ухаживаний за Ольгой осталось любопытное письмо Григория Васильевича, в котором он, изнывая от ревности, пытается выяснить, почему Оленька холодно говорила с ним по телефону, и нет ли у него соперника:
Вероятно, соперника не было, потому что вскоре они поженились, и через год у них родился сын Дуглас. Александров решил так назвать ребенка в честь актера Дугласа Фэрбенкса, который был в те годы кумиром поколения. Эйзенштейн в шутку предлагал назвать ребенка Тарасом, вспоминая об украинских корнях Григория. Со временем Дуглас был переименовал в Василия в честь деда.
Первые годы брак был очень счастливый. Ольга старалась помогать мужу во всем. Например, она снималась в фильме «Стачка», работала над монтажом «Броненосца «Потемкин», была ассистентом на съемке фильма «Октябрь».
«Стачка» — первый полнометражный фильм Эйзенштейна, в котором речь идет о забастовке рабочих крупного завода. Решиться на такой опыт Сергей Васильевич смог в 1924 году по предложению директора 1-й фабрики Госкино. Ему сразу же крупно повезло, потому что уже на съемках этой картины он нашел своего идеального оператора, снявшего затем все его фильмы -Эдуарда Тиссэ (на фото сидит слева).
Григорий Александров, как и другие актеры театра Пролеткульта, участвовал в съемках, как актер массовки.А также как ассистент режиссера. Для обоих друзей это был первый опыт работы в кино. Они много экспериментировали, выдумывали. У Эйзенштейна было много разных способов работы с актерами, в большинстве своем непрофессиональными.
Александров вспоминал такой случай, связанный со съемкой сцены разгона забастовщиков с помощью брандспойтов: «…мы, собирая массовку, не предупреждали людей о том, что ожидается холодный душ. А когда установили киносъемочный аппарат, подкатили пожарные и стали поливать толпу водой, все вышло «как нужно» — люди возмущенно кричали, даже бросались на пожарных с кулаками. Меня, как организатора этой съемки, решили побить… Известное дело, искусство требует жертв. Но зато какая вышла сцена! Так не сыграешь
». К чести кинематографистов–хулиганов следует добавить, что они от раздачи брандспойтом уклоняться не стали, и были вымочены наряду со всеми.
«Стачка» получила на выставке в Париже серебряную медаль.
На волне успеха Эйзеншейну Комиссия Президиума ЦИК СССР поручает постановку фильма к годовщине к двадцатилетнему юбилею революции 1905 года. Изначально планировалось снять большое полотно о всех событиях того года, но потом Эйзенштейн свел обширный замысел к восстанию моряков на броненосце «Князь Потемкин Таврический».
Над этим фильмом снова работала вся «железная пятерка» Эйзештейна и примкнувший к ним Тиссэ. Александров играл в фильме роль офицера ГиляровскогоОн же и актер Левшин выполняли большинство трюков. В «Броненосце „Потёмкин“» есть сцена, где взбунтовавшиеся матросы выбрасывают за борт офицеров. Эту сцену снимали в Севастополе в декабре. Актёры, исполнители ролей, «купаться» отказались. Александров и Левшин прыгали в воду за всех офицеров. Каждый раз трюкачей переодевали, приклеивали разные бороды и усы и бросали за борт. Эйзенштейн был настроен оптимистично и уверял, что с его помощниками ничего не случится. И оказался прав. Александров и Левшин даже не простудились
Одним из эпизодов, имевших на премьере наибольший успех, был подъем экипажем красного флага. На выпускавшейся тогда плёнке нельзя было воспроизвести красный цвет. Он получался черным. Снимали белый флаг. Но, поколебавшись, Эйзенштейн решился на копии, которая предназначалась для демонстрации в Большом, покрасить флаг в красный цвет, и сделано это было кисточками. Сто восемь кадриков. Это была трудная работа, но эффект получился необыкновенный!
Фильм имел огромный успех во всем мире. И неоднократно был признан лучшим фильмом всех времен и народов по опросам кинематографистов.
Режиссеру Эйзенштейну этот успех принес, наконец, отдельное жилье. До этого он жил в одной комнате с актером Максимом Штраухом. Особые неудобства начались, когда Штраух женился, и к ним переехала его жена Юдифь Глизер. И только после премьеры «Броненосца «Потемкина» домовой комитет на Чистых прудах выделил Эйзенштейну отдельную комнату.
После «Броненосца» Эйзенштейн в содружестве с Григорием Александровым пишет сценарий фильма «Генеральная линия» о кооперации в деревне. Но едва они приступают к съемкам, как приходит заказ на постановку картины к 10-летию Октябрьской революции, причем в предельно сжатые сроки.
Работали Эйзенштейн и Александров напряженно, иногда по сорок часов подряд. Съемки проходили на улицах, на набережных Петрограда. Фильм «Октябрь» вышел к юбилейной дате. В нем впервые был дан образ Ленина, показаны важнейшие события революции: речь Ленина с броневика, июльский расстрел, борьба с корниловщиной, штурм Зимнего, II съезд Советов. По сути, этот фильм создал романтический миф об Октябрьской революции.
На фото: Александров репетирует с актером Никандровым роль Ленина.
После этого большого очередного успеха команда вернулась к работе над «Генеральной линией». Но тут в их творческий процесс вмешался Сталин. Он вызвал режиссеров и дал несколько советов: изменить финал, название, поездить по стране и сделать досъемки. Эйзенштейн и Александров советам последовали, все, что надо, изменили. Фильм вышел под названием «Старое и новое». Таким образом молодые кинематографисты заручились доверием главного кинопродюсера СССР. И через несколько месяцев им втроем с оператором Эдуардом Тиссэ разрешили отправиться за границу изучать технологии звукового кино.
(На фото: Александров, Эйзенштейн, Уолт Дисней и Эдуард Тиссэ)
История с зарубежной командировкой блистательного трио кинематографистов с высоты сегодняшних дней попахивает сущей авантюрой. Эйзенштейн и Ко, заручившись устным одобрением (всего лишь!) заезжей голливудской знаменитости — Дугласа Фэрбенкса и, выпросив у Луначарского подпись на заявлении, принимают решение выехать в США. Но не сразу, а совершив «чёс» по Европе: в Берлине, Амстердаме, Лондоне и Париже как раз намечались премьеры «Потемкина» и новейшего фильма — «Генеральной линии».
Страницы дневника Александрова, а также его письма жене Ольге, рассказывают о перипетиях этой командировки. Формальной целью их поездки на Запад, как следовало из документов, было овладение новыми звуковыми технологиями в целях усовершенствования кинопроцесса в СССР. Цель более чем благородная, но в финансовом отношении непродуманная. Отсутствие денег (командировочные в размере 20 долларов в сутки выдавались нестабильно) вынуждало группу Эйзенштейна заниматься халтурной подработкой: снимать рекламные трейлеры, документальные фильмы, улучшать чужие сценарии и делать монтаж не-своих кинофильмов (картина «Ядовитый газ»), читать платные лекции, и — не всегда профильной аудитории.
В Берлине им удалось поучаствовать в работе над фильмом «Голубой ангел», во время которой они познакомились и подружились с Марлен Дитрих.
В Швейцарии они снимали агитационный фильм на тему пользы абортов. На этих съемках произошла юмористическая история. В клинике Цюриха, где проходили натурные съемки, в тот день долго не было родов. Чтобы не аппаратура не простаивала, Эйзенштейн решил снимать общий план процедуры кесарева сечения, в котором не очень различимую фигуру роженицы должен был изображать Александров. Подошедшая акушерка, не разобравшись в ситуации, спросила на всякий случай: «Это ваши первые роды?». Дикий смех «роженицы» и Эйзенштейна сорвали съемочный процесс на несколько часов.
В Париже им заказал фильм известный магнат, выходец из Российской империи, Леонард Розенталь. Его новым увлечением тогда была Мара Владимировна Якубович, также эмигрантка из Российской империи. Зная мечты своей возлюбленной о кинокарьере, он предложил Эйзенштейну и его группе снять фильм с ней в главной роли.
«Сентиментальный романс» — первая самостоятельная режиссерская работа Александрова. Фильм был интересен как первый опыт звуковой съемки. Вся предварительная работа по подготовке к съемкам легла на Александрова, а Эйзенштейн, чье участие в съемочном процессе было непременным условием договора, не столько осуществлял общее руководство, сколько генерировал идеи.
При съемке этого фильма Александров, как никогда, оказался «в великой тени». Ибо на предыдущих четырех фильмах с Эйзенштейном все было ясно: на «Стачке» Александров – ассистент режиссера, на «Потемкине» – режиссер-ассистент, на «Октябре» и «Старом и новом» – соавтор сценария и сорежиссер. Здесь же, когда он снял наконец-то свой первый – какой-никакой, но самостоятельный фильм, ему приходилось читать такое: «Почти все газеты Западной Европы восхваляют новое произведение Эйзенштейна
». «Тан»: « Это совсем маленький фильм и очень большое событие с кинематографической точки зрения ». «Бильд»: « Эта фильма – не просто художественное произведение. Это одно из важнейших событий в истории кино » .
Фото сделано в новогоднюю ночь в Париже 1930 году, дама в мехах — Мара Якубович, рядом — Григорий Александров, мужчина с бородой — магнат Розенталь.
У Григория Васильевича во время съемок завязался роман с красавицей Марой, в отсутствие ее покровителя. Романтичные строки из дневника:
«Удивительное удовольствие от присутствия М.В. Не предполагал я раньше, что можно не прикасаясь, не двигаясь, даже не смотря, ощущать и чувствовать женщину. Особенно этому помогала великолепная Аргентинская Капелла. Чувственные звуки нежной музыки и ее волнующие ритмы делали свое дело так, как они должны это делать. Впервые за свою двадцатишестилетнюю жизнь пережил волнение только оттого, что сидим рядом»
Впрочем, в нее влюбился еще и другой участник съемочной группы, что привело к трагедии, описанной в дневнике Александрова :
«Мне будет интересно посмотреть на этот почерк через несколько дней и сличить его с другими моими записями. Мне будет интересно узнать, в какой степени хладнокровие и выдержка мои изменились за последнее время и в какой степени, вульгарно выражаясь, «философский цинизм» внедрился в работу моего мышления.
Дело в том, что час тому назад мне по телефону Азарх сказал, что Шура Шифрин застрелился в доме Мары Владимировны. Девять часов тому назад Шура по телефону спрашивал меня в тот момент, когда я опускал письма. Месяц тому назад Шура сказал, что он с большой охотой пристрелил бы меня. Ревность Шуры ко мне из-за М.В. была причиной нашей вражды. Сейчас приедет Эдуард и объяснит подробности происшествия. Главная подлость в этом деле, что он застрелился у М.В…
Помочь М.В. можно только спокойствием. Мое бессилие помочь ей приводит меня в бешенство. Но я доволен, что внешне и в движении, голосе ни одного срыва.
Надо сказать, что хладнокровие и выдержка Григория Васильевича были чрезвычайно натренированы. Почти все, кто делился воспоминаниями о нем, отмечают способность глубоко скрывать свои переживания. Окружающим он казался очень легким, ни о чем не переживающим, очень оптимистичным человеком, хотя по его дневникам видно, что это было далеко не так.
Тем временем Александров отправлял жене в Москву такие письма:
Париж, конец февраля 1930 года …Американские дела двигаются очень медленно, ибо письмами разговаривать невозможно, а пока люди съездят в Америку, проходит много времени. <…> Я мечтаю встретиться с тобой за границей, ибо для меня будет большим удовольствием показывать тебе невиданные вещи и любоваться на твое удивление, и от этого еще сильнее тебя любить. Я все время сворачиваю тему моего письма на любовь, потому что в Париже уже солнечные, весенние, теплые дни, и они определяют мои мысли. </…>
<…>.</…>
Париж, 28 февраля 1930 года Солнышко! Неужели еще нет моих писем! Неужели еще не дошли мои теплые и искренние слова по поводу моей любви к очаровательной моей супружнице. <…> В эти дни я особенно сильно вспоминаю и думаю о тебе, ибо ухаживания некоторых парижских княгинь и аристократок дошли до того, что в комнате моей появляются корзины с цветами. Но это только увеличивает любовь к Оленьке.</…>
Мы сегодня уезжаем на 2 дня в путешествие по Франции по тем самым местам, где была война. Затем едем на 3–4 дня к берегам Великого Океана снимать бурю на море. А затем съемки под Парижем, в парках и лесах.
Эту маленькую картинку думаю закончить через месяц. Учусь каждый день очень многому, и в данный момент уже почти специалист по тон-фильму
Эйзенштейн, наблюдавший все приключения своего товарища, ехидно обзывал его советским Казановой.
В Европе у Александрова с Эйзенштейном начали окончательно портиться отношения. Из дневника Григория Васильевича: «С Эйзеном разговор. Прошу не затирать мое имя в рекламе. Повторяю разговор, который был в поезде при выезде из Москвы. Эйзен обещает, как обещал уже 10 раз, но я теперь настойчивее и взрослее».
«Эйзен сказал, что уезжать надо 7 мая. При самых благоприятных обстоятельствах я не успею кончить тоноризацию «Романса». Эйзен думает уехать вперед, оставив нас в Париже. Это подлость! Буду говорить с ним, но думаю, не подействует. Уговорить его можно только аргументами, удовлетворяющими его личные интересы».
Наконец фильм был закончен, с Марой Григорий простился, и вслед за Эйзенштейном, который действительно уехал раньше, отправился в Голливуд.
Поначалу Америка приняла кинематографистов дружелюбно. Они подписали контракт с Paramount Pictures, по которому их команде выделили жалование в девятьсот долларов в неделю, они сняли виллу в Беверли-Хиллз с бассейном и прислугой и автомобиль «ДеСото». Познакомились со многим режиссерами и звездами кино. Подружились с Чарли Чаплином.
Но затем все творческие идеи Эйзенштейна киностудия зарубила на корню. Под конец им вообще предложили снять фильм по книге Льва Троцкого, и друзья поняли, что дальше оставаться в США опасно.
Неожиданно Эйзенштейну предложили снять независимый кинофильм о Мексике. Он согласился, и его команда поехала в Мексику.
Эта киноэкспедиция была полна приключений. Сначала они попали под арест, так как на них поступил донос, обвиняющий в коммунистической пропаганде.
Надо сказать, что по такому же доносу Александров в первый день в США попал в тюрьму «Синг-Синг» на Острове слез. Да и во Франции их пытались посадить, так как подозревали, что Эйзенштейн – начальник фильмовой пропаганды Комитета по кинематографии СССР, а Александров — агент ГПУ, приставленный к нему для политической окраски его поведения.
Потом их долго вызволяли мексиканские и иностранные знаменитости и активисты. Наконец их освободили. Начались съемки, поиск натуры, сочинение сценария на ходу. Выпало на их долю и землетрясение, которое они оперативно засняли и смонтировали в документальный фильм «Землетрясение в Оахаке». Потом тяжело заболел Александров (чем-то вроде малярии). Сергей Эйзенштейн рассорился со спонсором фильма. В это время советское правительство потребовало возвращения группы на родину.
Эйзенштейн фильм не закончил, все материалы — а наснимали они с Тиссэ очень много, — остались у продюсера. Он устно пообещал отправить материалы в Россию следующим кораблем, но так и не сделал этого.
В 1932 году, после трех лет путешествий, Эйзенштейн, Тиссэ и Александров вернулись домой.
О самостоятельной режиссерской деятельности Григория Васильевича и его встрече с Любовью Орловой речь пойдет в следующем посте)
Обновлено 20/12/19 20:36
:
Продолжение — здесь!
Движение вперед
Отношения с Сергеем Эйзенштейном у Григория Александрова сложились довольно теплые. Настолько, что более опытный мастер частенько советовался с новичком — так, Григорий помогал мэтру со сценариями его первых фильмов — «Броненосец Потемкин» и «Стачка». Впоследствии Александров же в них и снялся.
Григорий помогал Эйзенштейну и в других картинах и спектаклях, был его правой рукой. Он быстро понял, что творить кино куда более интересно, чем сниматься в нем, и мечтал лишь о возможности самовыражения. А пока такой не было, он плотно сотрудничал с Эйзенштейном.
Фильмография
Актер:
- 1923 – «Дневник Глумова», Глумов
- 1925 – «Броненосец «Потемкин», старший офицер Гиляровский
- 1929 – «Старое и новое», водитель трактора
- 1938 – «Волга-волга», капитан спасательного буксира
- 1970 – «Скворец и лира», генерал
Режиссер:
- 1924 – «Стачки»
- 1927 – «Октябрь»
- 1930 – «Спящая красавица»
- 1932 – «Да здравствует Мексика!»
- 1934 – «Веселые ребята»
- 1936 – «Цирк»
- 1938 – «Первое мая»
- 1947 – «Весна»
- 1953 – «Великое прощание»
- 1967 – «Десять дней, которые потрясли мир»
Голливуд
Всем известно, что в советское время за рубеж выехать было не так-то просто. Но Сергею Эйзенштейну это удалось, а вместе с ним из страны выехал и Григорий Александров. Они покинули Советы аж на три года, а конечной точкой их путешествия являлся Голливуд. Ехали артисты за расширением знаний и получением нового опыта — узнать о звуковом кино (до этого нашей стране известно было лишь немое). За три года Александров и Эйзенштейн успели побывать не только в Соединенных Штатах, объехали они и Европу, а в Париже умудрились даже снять фильм «Сентиментальный романс».
В Москву творческий тандем вернулся в тридцать втором году минувшего века. И вот тогда все изменилось. Григорий Александров решил двигаться дальше.
Биография
Александр Сергеевич Александров родился 1 августа 1949 года в городе Дмитрове Московской области. В 1973 году он окончил Театральное училище имени М. С. Щепкина, после окончания которого был приглашён сниматься в кино в фильме режиссёра Наума Бирмана «Я служу на границе», где он сыграл одну из главных ролей — рядового Андрея Стрекалова. В 1974 году Александра пригласили сниматься в одной из главных ролей в 3-серийный фильм режиссёра Г. Раппапорта «Сержант милиции». А. Александров проработал почти 30 лет (1977—2005) в ленинградском (петербургском) драматическом «Театре на Литейном», где он сыграл множество ролей классического и современного репертуара. В 1994 году А. Александрову было присвоено звание заслуженного артиста России[1]. Умер 7 апреля 2009 года. Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга[2].
Свободное плавание
Вернувшись из длительной поездки, накопив немало опыта и имея кое-какие представления о том, как и что снимать, Григорий Александров решил, что наконец пришла пора его самостоятельной режиссерской карьеры. С тем он и ушел от Эйзенштейна.
В том же тридцать втором случилось еще кое-что, что, возможно, могло повлиять на распад союза Эйзенштейн — Александров. Лично последнему сам Иосиф Виссарионович Сталин заказал фильм о себе, фильм, который прославлял бы и возносил главу Советов. Такой фильм Александров снял, что, вероятно, также способствовало получению им в дальнейшем «зеленого света» на работу, в то время как многие другие режиссеры добиться разрешения на съемки зачастую не могли.
Как бы то ни было, «Интернационал» увидел свет. А после этого, все в том же тридцать втором, Григорий Александров приступил к съемкам картины, сделавшей его знаменитым — «Веселые ребята».
«Веселые ребята»
Фильм, вышедший на экраны в тридцать четвертом году, основан на постановке «Музыкальный магазин» с участием знаменитого Леонида Утесова. По его же инициативе из постановки усилиями двух выдающихся драматургов советского времени — Николая Эрдмана и Владимира Масса — был создан полнометражный фильм.
Целью являлось создание жанра музыкальной кинокомедии; такой жанр вовсю уже использовался на Западе, а в нашей стране о нем никто и не слышал. Александрову, начинающему самостоятельное плавание по волнам режиссуры, доверили донести до зрителя идею нового жанра. И он со своей задачей справился — картина имела феноменальный успех, а сам молодой режиссер, что называется, проснулся знаменитым.
Дальнейшая жизнь
В пятидесятых годах прошлого столетия Григорий Александров, ставший профессором, являлся художественным руководителем во ВГИКе, на режиссерском факультете. В семидесятых выпустил книги воспоминаний. А незадолго до своей смерти, в восемьдесят третьем году, снял документальный фильм о своей супруге Любови Орловой. Последний же художественный фильм «из-под пера» режиссера вышел одиннадцатью годами ранее. Больше после этого Александров не снимал.
Именитый кинорежиссер скончался в декабре 1983 года от инфекции в почках. Похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.
Личная жизнь
Режиссер был женат трижды. Хотя всем известно о связи Григория Александрова и Любови Орловой, мало кто подозревает, что помимо красавицы-актрисы режиссер был женат еще дважды.
Первой супругой Григория стала девушка по имени Ольга. Они поженились совсем молодыми, и в браке этом родился ребенок — сын Григория Александрова по имени Дуглас. Родители-театралы (Ольга тоже принадлежала к миру искусства) назвали мальчика в честь одного голливудского актера.
Этот брак долго не просуществовал. Григорий встретил Любовь Орлову и потерял голову. С Орловой Григорий Александров жил в счастливом браке до 1975 года — вплоть до смерти актрисы.
Третьей супругой режиссера четыре года спустя стала его бывшая невестка, а на тот момент уже вдова сына (Дуглас скончался от инфаркта в семьдесят восьмом году). Этот брак продлился до смерти режиссера. У Александрова остался внук, тоже Григорий. Он окончил операторский факультет.
Такова биография талантливого режиссера Григория Александрова.
Брак по расчету
В это время Григорий Александров тоже потерял свою любимую жену и принял решение взять в жены супругу своего сына — Галину Крылову. И этот союз не про любовь, симпатию или страсть. Он про то, чтобы обеспечить друг другу достойную жизнь и уход из нее. Григорий и Галина договорились о том, что ей с сыном остается все наследство актера, а она будет за ним ухаживать. Брак по расчету продлился недолго — всего 4 года. После смерти Александрова Галина стала законной владелицей всех семейных архивов, загородного дома и множества других активов.
Казалось бы, у Крыловой только началась материально обеспеченная жизнь, как она заболела и вскоре скончалась.
Когда к владениям прикоснулась рука Григория-младшего, они быстро потеряли свою ценность или просто были распроданы. Наследник не желал ни учиться, ни работать, поэтому он тут же сдал в аренду роскошную дачу своего деда, а семейный архив просто растаскали съемщики дома.